|
DOI: 10.7256/2454-0757.2022.6.38261
EDN: EXPYLK
Дата направления статьи в редакцию:
13-06-2022
Дата публикации:
02-07-2022
Аннотация:
В статье рассматривается история развития идей семиотики, начиная с работ св. Августина и по настоящее время. Автор разделяет семиотический подход, который, судя по литературе, сформулировал Августин, и семиотику как научную дисциплину, причем в двух вариантах, как аналог математики и естествознания (речь идет о «второй природе», которая изучается в гуманитарных и социальных науках). Приводится характеристика семиотического подхода, представленная Августином в схеме, которую, показывает автор, можно распространить на различные гуманитарные объекты (конкретно это демонстрируется относительно музыки). На основе семиотического подхода и классификаций знаков в XIX и XX вв. создавались различные варианты семиотики как науки. Объясняется различие научных семиотик: семиотики решали разные проблемы и задачи, семиотически осмысляли разные предметные области, исходили из разного понимания науки. Тем не менее, во всех вариантах семиотики устанавливались отношения между составляющими знака. Рассматривается проект реформы семиотики, предлагаемый Г.П. Щедровицким, и что из этого получилось (еще одна семиотика, а не организация разных научных семиотик на единой основе теории деятельности). Опираясь на анализ двух кейсов (семиотического анализа метафоры в произведении Меира Шалева «Эсав» и скульптуры Афродиты Праксителя), автор намечает еще один вариант семиотики, который он называет «экспрессионикой». Хотя предложенная им методология позволяет анализировать и осмыслять довольно широкий круг выражений и произведений искусства, автор предлагает не считать ее универсальной.
Ключевые слова:
семиотика, наука, подход, знаки, схемы, выражения, реконструкция, интерпретация, произведения, реальность
Abstract: The article examines the history of the development of the ideas of semiotics, from the works of St. Augustine to the present. The author shares the semiotic approach, which, judging by the literature, was formulated by Augustine, and semiotics as a scientific discipline, and in two versions, as an analogue of mathematics and natural science (we are talking about the "second nature", which is studied in the humanities and social sciences). The characteristic of the semiotic approach presented by Augustine in the scheme is given, which, the author shows, can be extended to various humanitarian objects (this is specifically demonstrated with respect to music). Based on the semiotic approach and classifications of signs, various variants of semiotics as a science were created in the XIX and XX centuries. The difference of scientific semiotics is explained: semiotics solved different problems and tasks, semiotically comprehended different subject areas, proceeded from a different understanding of science. Nevertheless, in all variants of semiotics, relations between the components of the sign were established. The semiotics reform project proposed by G.P. Shchedrovitsky is considered, and what came of it (another semiotics, and not the organization of different scientific semiotics on a single basis of the theory of activity). Based on the analysis of two cases (the semiotic analysis of the metaphor in the work of Meir Shalev "Esav" and the sculpture of Aphrodite Praxiteles), the author outlines another version of semiotics, which he calls "expressionism". Although the methodology proposed by him allows analyzing and comprehending a fairly wide range of expressions and works of art, the author suggests not to consider it universal.
Keywords: semiotics, the science, approach, signs, schemes, expressions, reconstruction, interpretation, works, reality
Семиотический подход. При формировании естествознания классическая математика считалась языком, на котором можно изучать природу. В диалоге «О возможности-бытии» Николай Кузанский пишет, что в «нашем знании нет ничего достоверного, кроме нашей математики... математические предметы, происходящие из нашего рассудка… познаются нами… точно» [5, c. 162]. Примерно о том же Галилей: «если человеческое понимание рассматривать интенсивно и коль скоро под интенсивностью разумеют совершенное понимание некоторых суждений, то я говорю, что человеческий интеллект действительно понимает некоторые из этих суждений совершенно и что в них он обретает ту же степень достоверности, какую имеет сама Природа. К этим суждениям принадлежат только математические науки, а именно геометрия и арифметика, в которых божественный интеллект действительно знает бесконечное число суждений, поскольку он знает все» [2, c. 61].
Если принять оппозицию, сформулированную в конце XIX столетия ‒ «наук о природе и наук о духе» (позднее, гуманитарных), то для гуманитарных наук в роли математики фактически предлагается именно семиотика. «Семиотика, ‒ пишут например, М.В. Ильин и И.В. Фомин, – это аналог математики для социально-гуманитарного знания. Последние два с лишним десятилетия нам приходится использовать всякий повод, чтобы выдвигать и развивать это положение… Это необходимо, поскольку среди публики… удивительным образом господствует взгляд, будто семиотика “всего лишь лингвистика”… Пирсовские идеи о фундаментальном характере семиотики развивал выдающийся ученый Чарльз Уильям Моррис. Он четко различал чистую (pure) семиотику (ее авторы, судя по всему, и считают аналогом математики. ‒ В.Р.) и ее приложения к различным предметным областям в виде дескриптивных (descriptive) семиотик» [3, с. 31, 32]. Правда, еще Ф. Соссюр указывал, что семиотику нельзя сводить к лингвистике: «можно, ‒ писал он, ‒ представить себе науку, изучающую жизнь знаков в общественной жизни…мы назвали бы ее семиологией (от греческого semeion ‒ знак). Она должна открыть нам, что такое знаки и какими законами ими управляются... Лингвистика только часть этой общей науки, законы, которые откроет семиология, будут применимы и к лингвистике…» [14, с. 23].
Таким образом, уже в конце XIX, начале прошлого столетия семиотика получила два дисциплинарных истолкования: как аналога математики и аналога естественной науки (но речь в данном случае шла не о «первой природе», а «второй», изучаемой в гуманитарных науках). Однако, как известно, начала обоих типов наук (математики и естествознания) задавались и разрабатывались в философии. Не исключение и семиотика, разработка ее основоположений ‒ заслуга св. Августина. Ретроспективно мы могли бы сказать, что именно он сформулировал идею «семиотического подхода» и начал продумывать семиотику в рамках философско-методологического дискурса.
Необходимость различения слов и знаков в раннем средневековье была обусловлена задачей осмысления разных истолкований Священного писания (как Слово Бога оно должно было иметь единственно правильно прочтение, но реально прочитывалось различно, например, четырьмя разными способами). Обсуждая это обстоятельство, Светлана Неретина пишет. «Вещи, сотворенные по Слову (в этом смысле слово всегда деловито и технично), не ноуменальны. Они подвижны и неустойчивы в своих значениях. Это особенно ясно при чтении Боэциевых Комментариев к “Категориям” Аристотеля, где его мысль почти зримо соскальзывает с идеи имени как nomen на имя как vocabulum, обнаруживая трудности для перевода: оба термина ‒ “имя”, но это разные имена. Ибо nomen указывает на вечный и неизменный Нус, Ум, а звучащее vocabulum ‒ на дрожь изменения, если не измены, имея прямое отношение к времени (что невозможно для Аристотева понимания имени), к глагольности. Отныне важным становится не утверждение эйдетичности имени, но его значение для человека, что самого человека непосредственно вводит в онто-теологическую систему. Земной мир, требующий умелости хотя бы ради человеческого спасения, предполагается не осколком вечности, а конкретностью, сращенностью с вечностью, обеспечивающей человеческое существование». Далее цитируя Августина, говорящего, что если бы в человеке «умолк всякий язык, всякий знак», то последний услышал бы непосредственно Бога и узрел вечную жизнь, Неретина старается показать, что знаки в средневековом понимании обеспечивают связь мистического знания вещей (тогда они не образы, а сами предметы) с обычным человеческим знанием вещей» [6, с. 206-207].
Анализируя разные прочтения и истолкования слов, Августин обнаруживает помимо непосредственного их смысла дополнительные, которые он и связывает с известным еще с работ Аристотеля понятием знака, причем эти дополнительные смыслы определяет как значение знака. «Приступая теперь к исследованию о знаках, ‒ пишет Августин, ‒ я говорю наоборот: пусть никто в них не обращает внимание на то, что есть, а только на то, что они суть знаки, т.е. что они означают. Ибо знак есть вещь, которая воздействует на чувства, помимо вида (species), заставляя приходить на ум нечто иное… И у нас только одна причина для обозначения, т.е. для придания знака – вынуть и перенести в душу другого то, что производит в душе то, что создает знак» [1, с. 66-67]. В данном случае «нечто иное» можно понять как денотат, а «вынуть и перенести в душу другого» как указание на коммуникацию. В ХХ столетии при формировании семиотики указанные два момента четко осознаются и оформляются понятийно [21, с. 127].
Но в работе Августина характеристика знака представлена не структурно, как в современной семиотике, а в виде схемы («приходит на ум», «вынуть и перенести», «душа»). Как схема представление о знаке Августина предполагает реконструкцию, которая, утверждаю я, может быть проделана не только относительно слов (предмет интереса Августина), но и самых разных семиотических построений, например, музыки. Вот воспоминание А. Шнитке о музыке Прокофьева. Шнитке показывает, что из музыки Прокофьева можно «вынуть» целую эпоху.
«А между тем, – пишет Шнитке, – начало XX века обещало человечеству долгожданную надежность исторического маршрута. Войны, во всяком случае великие, казались уже невозможными. Наука вытеснила веру. Любые еще непреодоленные препятствия должны были вскоре пасть. Отсюда – холодная, спортивная жизненная установка на наиполезнейшее, равно как и одухотвореннейшее, в судьбах молодых людей, Прокофьева в том числе. Это был естественный оптимизм – не идеологически внушенный, но самый что ни на есть подлинный. Та многогранная солидаризация с эпохой и ее атрибутами – скорыми поездами, автомобилями, самолетами, телеграфом, радио и так далее, – что давала отрезвляюще-экстатическую, раз и навсегда достигнутую, точнейшую организацию времени, отразившуюся и в житейских привычках Прокофьева... Видимо, каждый человек на вcex повоpoтax пути остается тем, чем он был с самого начала, и время тут ничего не может поделать. Следует лишь сказать, что мрачные начала бытия Прокофьеву также нe были чужды. Достаточно вспомнить сцену аутодафе в Огненном ангеле или сцену смерти князя Андрея в Войне и мире, равно как и множество трагических и драматических поворотов в форме, например, Шестой симфонии, или Восьмой фортепианной, или Первой скрипичной сонаты. И во Втором струнном квартете, и в Пяти стихотворениях Анны Ахматовой. А гениальная сцена двойного самоубийства в Ромео и Джульетте? Слишком долго об этой серьезнейшей музыке судили лишь по ее дерзкой оболочке, не обращая внимания на глубоко прочувствованную суть. Видели карнавальный блеск внешнего мира, не принимая во внимание серьезность – строгую серьёзность, не дозволяющую страданию выплеснуться и затопить все вокруг. А ведь серьезность присутствует у Прокофьева с самого начала! Стоит подумать о Втором фортепианном концерте, об этом до сих пор остающемся спорным звуковом мире, исполненном жесткости и суровости. О Скифской сюите Ала и Лоллий, очень своеобразном “теневом варианте” Весны священной. О Второй или Третьей фортепианных сонатах и еще о многом другом. Этот человек, конечно же, знал ужасную правду о своем времени. Он лишь не позволял ей подавить себя. Его мышление оставалось в классицистских рамках, но тем выше была трагическая сила высказывания во всех этих его гавотах и менуэтах, вальсах и маршах» [19, с. 210].
Конечно, подобное расширение понимания знака может вызвать возражение: как так, разве представленный текст Шнитке можно считать знаком? С точки зрения понятия Августина, заданного соответствующей схемой, думаю, можно. Другое дело, согласен, обыденный смысл понятия «знак» в данном случае сильно расходится со смыслом августиновского понятия. Лучше в этом случае говорить не о знаке, а «выражении» (что и предлагал В. Дильтей, считая «выражение» главной способностью человека наряду с «пониманием» и «переживаем»). Применительно к этому случаю определение Августина можно переформулировать так: «приступая теперь к исследованию выражений, ‒ я говорю наоборот: пусть никто в них не обращает внимание на то, что есть, а только на то, что они суть выражения, т.е. что они выражают. Ибо выражение есть семиотическое построение, которое воздействует на чувства, помимо вида (непосредственного смысла), заставляя осознавать нечто иное… И у нас только одна причина для обозначения, т.е. для опознания выражения – вынуть и перенести в душу другого то, что производит в душе то, что создает выражение». Анализ выражений можно назвать «экспрессивным» (от латинского слова «expressio» ‒ выражение)
Семиотика ‒ наука. Как наука, и математика и естествознание, семиотика складывается в XIX и XX столетиях. Семиотические схемы и типологии знаков (Августина, Боэция, Локка и многих других философов Средних веков и Нового времени) послужили основанием для конструирования идеальных объектов семиотики как науки. При этом были построены несколько семиотик, различающихся понятиями, строением идеальных объектов, областями эмпирических приложений. «Следует заметить, ‒ замечает Елена Черневич, ‒ что терминологический разнобой, существующий в семиотической литературе, в значительной степени затрудняет ее изучение. Часто одни и те же или близкие по смыслу понятия обозначаются различно, Например, синонимично употребляются такие последовательности слов:
выражение, знак, обозначающее, означающее, имя;
обозначаемое, денотат, предмет, объект, вещь;
означаемое, десигнат, сигнификат, концепт, или понятие денотата, смысл имени, или знака, значение знака;
отношение обозначения, денотации, именования, номинации;
отношение означения, выражения, десигнации, сигнификации.
Столь большое различие в словоупотреблении отражает тот факт, что термины в свое время вводили в оборот логики и лингвисты при исследовании совершенно различных научных проблем» [16, с. 35].
Сама Черневич развивает вариант семиотики, отталкиваясь от семиотических работ, в которых различаются планы выражения и содержания. В качестве эмпирической области изучения она выделяет языковые тексты графического дизайна. Проблемой для нее выступает, например, объяснение того, почему в одних случаях, создавая рекламу, дизайнер изображает именно то, что рекламирует, а в других вроде бы совершенно иное. (Скажем, реклама подбора масляных красок изображается как точное попадание биллиардного шара в лузу). «Семиотическая точка зрения на графический дизайн, ‒ пишет Черневич, ‒ позволяет свести воедино многие теоретические и методические проблемы исследования и проектирования систем визуальной коммуникации» [16, с. 30]. Идеальные объекты Черневич строит, исходя из логических отношений, устанавливаемых в семиотике между планами выражения и содержания, а именно, отношений синонимии, метафоры, метонимии, антонимии, расширения и сужения.
Ваш покорный слуга в ранних исследованиях в качестве области семиотического изучения брал математические тексты древнего мира, а идеальные объекты конструировал на основе семиотических схем замещения, разработанных Г.П. Щедровицким и представителями «Московского методологического кружка». Основная проблема ‒ объяснение развития начальных этапов математики [7]. При этом мне удалось построить следующую типологию знаков (они же при другой интерпретации ‒ идеальные объекты): знаки-модели, знаки-символы, знаки-обозначения [13, с. 44-49]. Каждый такой идеальный объект изображался структурной схемой. На основе одних идеальных идеальных объектов в процедуре структурного преобразования строились другие, более сложные. Например, более сложный тип знака мог быть получен за счет того, что замещался не исходный объект, сформированный в практической деятельности, а знак, замещающий этот объект. В семиотических исследованиях, посвященных анализу искусства, я использовал данную типологию знаков для реконструкции происхождения наскальной живописи и музыкальных выражений Нового времени, включая фиксирующую их нотную запись.
В. Канке построил семиотику для философии, следуя за Ч. Пирсом, который помимо знака и денотата опосредованно вводил позицию творца и пользователя знака. «Знак создает “в уме” адресата равноценный или, может быть, более развитый знак, называемой интерпретантой. То, что знак обозначает, это ‒ объект. Но, как пишет Пирс, объект не во всех отношениях, но только в отношении к своего рода идее, которая может быть названа основой репрезентамента. Идея понимается им как то, что имеет схожее содержание (у разных людей ‒ когда один человек “схватывает” идею другого человека, или у одного человека, но в разные отрезки времени)» [15] .
«Существует, ‒ пишет В. Канке, ‒ целый ворох так называемых “простых” определений знака. Все они строятся по схеме средневековых схоластов, гласящих “Alquid stat pro aliquo“: Нечто стоит вместо другого.
замещает
представляет
Если А несет информацию о В, то А - знак В, а В есть значение
указывает на
репрезентирует
знака А... Несмотря на то, что стандартное определение знака не является ошибочным, оно тем не менее обладает несомненными слабостями. Дело в том, что оно никак не учитывает роль актанта, человека интерпретирующего и действующего. Кроме значения знак еще имеет смысл, а он вырабатывается интерпретатором» [4, с. 10]. «Итак, ‒ поясняет Канке интересовавшую его проблему, ‒ получен определенный список категорий философии как семиотики... что позволяет любую из традиционных философских категорий переформулировать и представить в семиотическом виде» [4, с. 25, 39].
Почему спрашивается, разошлись семиотические науки? Это естественно, ведь семиотики решали разные проблемы и задачи, семиотически осмысляли разные предметные области, исходили из разного понимания науки. Тем не менее, во всех вариантах семиотики устанавливались отношения между составляющими знака (замещение, подобие, обозначение, метафора, выражение и др.); здесь возможно, сказалось влияние системного подхода и химии. В одних случаях идеальные объекты семиотики создавались таким образом, чтобы можно было описывать разные типы знаков определенной эмпирической области (семиотическое естествознание), в других ‒ на основе одних идеальных объектов семиотики строить другие (семиотическая математика).
Мой учитель, Г.П. Щедровицкий, следуя здесь в методологическом отношении вслед за Л.С. Выготским, расценивал ситуацию многих семиотик как ненормальную, и опять же, подражая Выготскому, предлагал снять разные семиотики в правильно построенной на основе теории деятельности семиотике (Выготский в 20-х годах прошлого столетия рассматривал как показатель глубокого кризиса существование многих психологий, предлагая заменить их «общей психологией», построенной по образцу физики). «Какой бы подход, ‒ пишет Г.Щедровицкий, ‒ мы сейчас ни взяли ‒ логический, лингвистический или психологический ‒ в каждом семиотика мыслится как простое расширение предмета соответствующей науки, как приложение ее понятий и методов к новой области объектов. Фактически нигде не идет речь о специфических методах семиотики, об особых ‒ и они должны быть новыми ‒ процедурах выделения и описания ее предмета... Поэтому можно сформулировать более общий тезис: основная задача семиотики как теории знаковых систем, если она хочет быть особой наукой, а не другим названием расширенной лингвистики, расширенной логики или психологии, состоит в объединении тех представлений о знаках и знаковых системах, которые выработаны к настоящему времени в психологии, логике, языкознании и других дисциплинах; семиотика будет иметь право на существование в качестве самостоятельной науки, если будет решать эту, ставшую уже насущной, задачу <…> Нетрудно заметить, что при том задании и истолковании моделей, какое у нас было, всякий разрыв в структуре введенных единиц является разрывом в деятельности… Последовательно задавая различные виды разрывов в структурах моделей, мы будем получать различные виды связей и средств связи, восстанавливающих целостность исходной структуры. Все элементы моделей, введенных таким образом, мы будем называть с е м и о т и ч е с к и м и» [20, с. 21, 22, 35-36].
Выработав такой подход, Щедровицкий и ваш покорный слуга построили новую семиотику, но оказалось, что она никак не затронула другие семиотики, не сняла их; просто вошла в семью уже сложившихся семиотических наук и дисциплин. Позднее я построил еще одну семиотику, положив в основание не понятие знака, а «схемы» [8]. И опять же новая семиотика, которую я назвал «схемологией» спокойно вошла в семью семиотических дисциплин, и понятно почему. Я решал проблему развития как обусловленную вызовами времени, которые овладевают человеком (философом, ученым, художником), с одной стороны, и работой его психики и сознания ‒ с другой, а в качестве семиотических форм (выражения) брал не знаки, а графические средства (рисунки, картины, скульптуры и т.п.), определяющие ви′дение.
Вернемся теперь к семиотическому подходу, как его сформулировал Августин. На основе этого подхода я наметил методологию, позволившую мне предложить экспрессивный анализ ряда произведений философии, искусства, науки. Здесь для характеристики «нечто иного», выраженного в тексте произведения, я вводил три плана анализа (рамки) и специальные понятия. Приведу две развернутые иллюстрации.
Первая иллюстрация. «Самая общая рамка и объемлющее целое ‒ это «осознаваемая культурная реальность»: ее примерами в модерне выступают искусство, наука, религия, сновидения, игра, общение, работа в широком понимании (от физической до интеллектуальной и творческой) и некоторые другие образования. Одни культурные реальности отличаются от других: типами событий, своеобразной логикой, условностью. По отношению к культуре ‒ это определенные области жизнедеятельности, по отношению к человеку форма и способы его жизни, то есть человек живет, проживая события определенных культурных реальностей, переходя из одной реальности в другие [9].
Вторая, тоже достаточно общая рамка и объемлющее целое (имея в виду «экспрессивные построения»), ‒ «культурная коммуникация» (коммуникация), в которой различаются: «коммуниканты» (например, создающие нарративные построения, и приобщающиеся к ним, проживающие события реальностей, заданных этими построениями), «транслируемые тексты», «реальности, создаваемые и воссоздаваемые в коммуникации» (они определяют понимание и видение коммуникантов). В «односторонних коммуникациях» реальности коммуникантов, создающих нарративные построения, сходны (идентичны) с реальностями коммуникантов, проживающих эти построения. В «двухсторонних коммуникациях» эти реальности не совпадают…
Третья рамка представляет собой структуру содержания экспрессивных построений. Она, как я показываю, состоит из двух целостностей ‒ определенной реальности и знаков, позволяющих войти в эту реальность, актуализировать ее события [10, с. 160].
Например, такие события схемы метрополитена как входы в метро и выходы из него обозначаются кружочками и названиями станций, а также словами «входы» и «выходы»; события пересадок с одной линии на другие ‒ изогнутыми стрелками и словами «пересадки», события движение по определенным маршрутам обозначаются цветными линиями и цифрами в кружочках и т.д. Скажем, денотаты знаков изогнутые стрелки и слово «пересадки» не имеют ничего общего с реальными или воображаемыми пересадками с одной станции на другие. Другими словами, хотя знаки необходимы, чтобы войти в реальность схемы и актуализировать определенные события, они относятся к языку, а не к реальности. Индивид создает реальность с опорой на язык, но не из языка; создание реальности предполагает конституирование определенной (иногда новой) «предметности». Так человек, впервые осваивающий метрополитен, должен не только практически научиться переходить с одной станции на другую (с одной линии метрополитена на другую), но и сформировать (конституровать) в своем сознании такую предметность как «пересадки в метро». <…>
Художественная реальность произведения искусств – это мир событий, которые создает художник (писатель, композитор), выражая свое отношение к событиям обычного мира (иногда изображая эти события, иногда возвышая и идеализируя, иногда лишь имея их в виду, поскольку, как правило, таким способом решает свои проблемы, а они бывают очень разные). В эти события входит зритель (читатель, слушатель), для этого он должен правильно «прочесть» и понять произведение искусств, входит, чтобы прожить их и решать уже свои проблемы. Одновременно и художник и зритель должны получить эстетическое удовольствие (это условие художественной коммуникации) как от художественной коммуникации, так и решения своих проблем. Удовольствие, полюсами которого выступает всего лишь приятное препровождение или напротив катарсис и экстатическое переживание. Поскольку проблемы и жизненные миры художника и зрителя не совпадают (совпадения случаются, но не так часто), в общем случае не совпадают и художественные реальности, которые они создают.
Я старался показать, что большую роль в процессе создания художественной реальности играют проблемы художника и зрителя, а также схемы и другие семиотические построения (в том числе метафоры), которые создаются, чтобы разрешить эти проблемы. Другое необходимое условие построения событий художественной реальности – создание новой предметности с опорой на схемы, художественные приемы и выразительные средства (понятия «жанр», «композиция», «тема», «драматургия», «мелодия», «гармония», «содержание», «образ» и др., существенно различающихся для разных видов искусства). Например, метафора может быть понята именно как особая схема, прием и выразительное средство, позволяющие на основе двух художественных содержаний (потенциальных событий) создать новое содержание (новую предметность), в котором как бы сплавлены (Гегель сказал бы «сняты») оба исходных художественных содержаний и за счет своего рода эмерджентного эффекта является для нашего сознания принципиально новое содержание (предметность). Чтобы эти достаточно общие положения, сделать более понятными и конкретными, рассмотрим один пример – метафору «кентавр», к которой обратился известный израильский писатель Меир Шалев при создании художественной реальности романа «Эсав».
Сначала напомним читателям, что такое кентавр. Прежде всего, кентавр существо, совмещающее в себе образ человека и лошади. В этом отношении конструкция кентавра является потенциальной метафорой. Хотя в кентавре налицо свойства человека и лошади, он и не человек и не лошадь. Живет кентавр в мире мифа и поэтому воспринимается как мистический персонаж. По характеру и воспитанию кентавр обычно очень дикое существо но, как исключение, наоборот, подобно Хирону, очень мудрое…
Теперь одна сюжетная линия романа «Эсав», где широко используется метафора кентавра. Отец главного героя Авраам Леви, пекарь, когда был еще молодым, возвращаясь с войны в свой родной город Иерусалим, попал в семью русских переселенцев и полюбил Сару, единственную девушку в семье (еще были отец и братья). Он женится на ней и увозит ее в Иерусалим, где она рожает ему двух сыновей близнецов. Воспитанная в любви и свободе и, по сути, на хуторе, далеко от больших городов, Сара не может ужиться с традиционным иерусалимским обществом. Не выдержав отношения к ней, в том числе свекрови, она забирает детей и насильно мужа, крадет коляску греческого патриарха¸ впрягается в нее как лошадь и бежит через Израиль в поисках места, где бы могла жить с семьей.
“Двенадцатого июля 1927 года около трех часов ночи из Яффских ворот внезапно вырвался «Так» – шикарная легкая коляска, принадлежавшая греческой патриархии. Ей недоставало, однако, привычной группы – самого патриарха, его арабского кучера да белого липицианского коня. Вместо седока и кучера на козлах, сжимая в руках поводья, восседали двое детишек, а вместо коня в деревянные оглобли была впряжена высокая, светловолосая, широкоплечая и красивая молодая женщина… Покрытый пустыми мешками из-под муки и пеной бессильной ярости, маленький щуплый Авраам проклинал тот день, когда он привез свою жену из Галилеи в Иерусалим. У него уже не осталось ни сил, ни терпения выносить ее манеры – эти повадки влюбленной кобылы, как говорили соседки, – из-за которых он стал посмешищем во дворах Еврейского квартала, да и всего Иерусалима тоже… Булиса Леви, госпожа Леви, сварливая мать Авраама, тоже не могла сомкнуть глаз. “Невесточка у меня – коли сыра у нее не купишь, так непременно тумаки получишь, – вздыхала она. – Говорю тебе, Авраам, эта женщина, которую ты привел в дом, – раньше я увижу белых ворон, чем мне будет покой от нее”…
“Подумаешь, принцесса де Сутлач, весь год у нее праздник, – возмущались родственницы и дворовые дамы, собравшись у колодца. – Целыми днями пьет одно только молоко, даже если не больна”.
Проходя по каменным переулкам в сопровождении верного и злобного гуся, привезенного ею из Галилеи, Сара прокладывала путь через хитросплетения обычаев и чащобу приличий, ощущая на себе испытующие взгляды, которыми мерили ее с ног до головы и буравили кожу. Взгляды удивленные, похотливые, любопытствующие, враждебные. Прохожие расступались перед ней, прижимаясь к стенам. Кто с гаденькой мокрой улыбкой, кто с затаенным вздохом вожделения, а кто – брызжа проклятьями. Она с растерянной гримасой, дрожащей в уголках губ, горбилась и вбирала свои широкие плечи, будто пыталась уменьшиться в размерах…
Было три часа утра. Молодая женщина остановила коляску у городской стены и с опаской осмотрелась вокруг. Ее взгляд задержался на нескольких феллахах, которые засветло пришли в город и теперь ждали открытия рынков… Внезапно ослы взревели, замотали шеями и запрыгали на месте в непонятном страхе. Феллахи, бросившиеся их успокоить, увидели коляску и молодую светловолосую женщину, застывшую между ее оглоблями. Их охватил ужас…
Молодая женщина опустила оглобли коляски на землю и, пытаясь расчистить себе дорогу, яростно топнула ногой, высоко запрокинула голову и издала жуткий волчий вой. В ответ ей тотчас раздалось страшное громыхание из самых глубин земли. С вершины городской стены вдруг покатились могучие камни, со всех сторон послышались испуганные вопли людей, крик петухов и собачий вой, стаи голубей и летучих мышей поднялись из городских щелей, из трещин в башнях, из потрясенных подземелий…
– Лезьте внутрь, – крикнула женщина маленьким близнецам. Она и сама на миг ужаснулась, подумав было, что ее вопль разомкнул оковы земли, но тут же пришла в себя – глаза застыли гневно и упрямо, и между бровями пролегла глубокая складка. Рыжий мальчик испугался, торопливо заполз внутрь коляски и спрятался за матерчатым пологом возле связанного отца. Но его брат лишь пошире раскрыл темные глаза и остался на кучерском сиденье.
Молодая мать поплотнее приладила упряжь к плечам, снова подхватила оглобли и стиснула их с удвоенной силой. Потом сделала глубокий вдох и пустилась бегом. Несясь мимо рушащихся стен, под дождем камней и воплей, она глотала дорогу длинными легкими шагами, упруго перепрыгивала через раскрывавшиеся под ее ногами расщелины и разрывала телом саван запахов, окутавших город, испарений, что поднялись над горящими пекарнями, над лопнувшими банками пряностей, над смрадными нечистотами, вырвавшимися из канализационных стоков, над лужами растекшегося кофе, оставшегося от тех, кто загодя пришел на утреннюю молитву. Она, которая всю жизнь пила лишь молоко, ненавидела иерусалимский обычай начинать день с чашки кофе и сейчас радовалась несчастью всех своих ненавистников…
Женщина повернула голову к городу и плюнула со злостью. Потом довольно улыбнулась, завернула кверху подол платья, затолкала его за пояс и снова пустилась в свой легкий бег. Ее босые ноги двигались в темноте с бесшумной уверенностью, точно сильные белые крылья той совы, что жила на кладбище караимов, де лос караим, и которой нас, бывало, пугали в детстве. Сквозь маленькие прорехи в матерчатом пологе до меня (речь идет о воспоминаниях второго сына Сары. ‒ В.Р.) доносились завистливые и поощрительные крики душевнобольных – завидев нас, они прижались к решеткам своих окон и сопровождали наше бегство тоскливыми и жадными взглядами. Я видел пятно удаляющегося Иерусалима, лицо своего брата-близнеца Якова, со смехом вцепившегося в материнские поводья, видел длинные, без устали движущиеся крылья ее бедер, вдыхал ее обильный пот, слышал гул ее розовых легких, стук могучего сердца, вгоняющего кровь в ее неукротимое тело. Я представлял себе в мыслях сильные сухожилия ее колен, упругие подушечки пяток, бицепсы, дышавшие под кожей ее бедер, всю ее – мою мать, обращенную Сару Леви, ′белую ведьму′, ′желтоволосую еврейку′, Сару Леви из рода Назаровых” [17].
Не стоит особенно упражняться в построении аналогий, они довольно очевидны, просто перечислю их. Сара, запряженная в коляску и бегущая легко по израильской земле, напоминает прекрасного кентавра. Вот она «яростно топнула ногой, высоко запрокинула голову и издала жуткий волчий вой», тут же посыпались камни и задрожала земля. Перед нами не просто человек-конь, но мистическое существо, что тоже характерно для кентавра. В сравнении с иерусалимскими горожанами Сара, действительно, дикий человек, и охраняет ее дикий гусь, подчеркивая справедливость приклеившейся к ней клички «белая ведьма». С точки зрения городской политкорректности реакция Сары на незнакомых людей, которые угрожают ее семье, тоже дикая...
Нетрудно понять и художественные приемы, которые применяет Шалев, создавая и развертывая метафору кентавра. Первый ‒ образ Сары, запряженной в коляску, мчащейся через всю страну. Это и метафора и схема. Схема, показываю я, изобретается человеком, позволяет разрешить стоящие перед ним проблемы, задает новую реальность, открывающую возможность по-новому действовать [8]. Как схема образ Сары позволяет наделить Сару необычными способностями и характером, а также задать новую реальность ‒ Сара-кентавр (она ведет себя подобно кентавру). Второй прием ‒ охраняющий Сару умный и могучий гусь. Третий ‒ совпадение: Сара в гневе топнула ногой и в тот же момент, совершенно случайно по времени, начинается землетрясение. Еще один прием: Сара выросла в семье русских переселенцев в атмосферы свободы и любви, и одновременно почти полностью обособленно от обычной культуры с ее социальными требованиями, ограничениями, условностью и частично, ханжеством.
Может показаться, что Сара-кентавр ‒ это просто соединение двух типов свойств ‒ молодой женщины и прекрасного животного (лошади). Нет, это не так, сами по себе эти свойства несоединимы, принадлежат разным реальностям. В художественной реальности на основе двух и более типов свойств (реальностей) создается новая предметность (реальность). Ведь Сара, даже поступающая необычно, не лошадь и не дикое животное. Она человек, ее поступки вполне понятны, но конечно, в свете того жизненного контекста (мира), который Шалев задал и выстроил. Сарой нельзя не восхищаться: это восхищение идет как от Шалева, так может идти и от читателя. В первом признается сам писатель, в одном интервью он говорит:
“В греческой мифологии есть нимфа по имени Аталанта. Насколько я могу судить, героини, похожие на нее, то и дело появляются в моих книгах: в «Эсаве», в «Фонтанелле», в меньшей степени в «Русском романе». Это женщина физически сильная, могучего сложения, огромного роста. Я думаю о ней с тех пор, как впервые, лет в 15, прочитал «Золотое руно» Роберта Грейвза — а Аталанта, как вы помните, была единственной женщиной среди аргонавтов. Наверное, у меня что-то вроде фиксации. Никогда не встречал ее в жизни, но не перестаю мечтать о ней” [18].
Правда, однажды, вспоминал потом писатель, он встретил женщину очень похожую на его мечту, но она не захотела с Шалевым общаться и ушла. Думаю, что я тоже восхищаюсь Сарой, она чем-то (это чем-то определить очень трудно) мне напоминает мою жену, особенно в молодости, но и сейчас» [12].
Вторая иллюстрация. Как известно, Пракситель «в образе греческой богини любви Афродиты впервые изваял обнаженное женское тело.
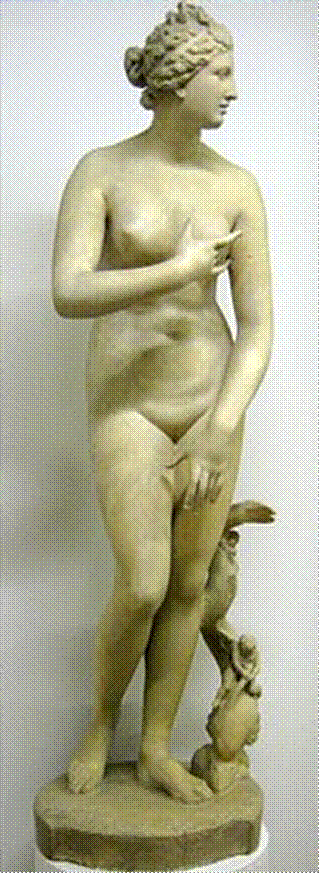
«Но простая нагота, ‒ пишет Мэри Бирд, ‒ была лишь частью этого. Эта Афродита была другой, явно эротической. Одни только руки ‒ распродажа здесь. Они скромно пытаются прикрыть? Указывают ли они в направлении того, что зритель больше всего хочет видеть? Или они просто дразнят? Каким бы ни был ответ, Пракситель установил те острые отношения между статуей женщины и предполагаемым зрителем-мужчиной, которые никогда не были утеряны из истории европейского искусства ‒ о чем слишком хорошо знали и сами древнегреческие зрители. Ибо это был аспект скульптуры, инсценированный в памятной истории о человеке, который относился к этой знаменитой богине из мрамора так, как если бы она была женщиной из плоти и крови» [22].
Здесь была своя длинная интересная история. Три богини: охоты, Артемида, мудрости, Афина Паллада, и домашнего очага, Гестия, всегда изображались скульпторами одетыми. До Праксителя и Афродита была одета. Кстати, и большинство богов-мужчин в ранней античности тоже изображались одетыми. Такая традиция полностью соответствовала пониманию того, что собой представляли боги. Это были небожители, настолько отличавшиеся от людей, что последние не считали возможным увидеть их в быту, обнаженными. К тому же, как показала история с Октеоном, случайно подглядевшим обнаженную Артемиду, это было смертельно опасно.
Но в VI-V веках до н.э. ситуация кардинально переменилась. На сцену вышли пифагорейцы, верящие в обожение и преодоление смерти. Они не то, чтобы считали себя равными богам, но равнялись на богов, идентифицировались с ними. Более того, античное искусство начинает изображать богов очень похожими на людей, правда, людей улучшенных. Вот здесь и понадобилось обнаженное тело, оно выступило посредником между прекрасными гречанками (как известно, Пракситель создавал свою Афродиту с натуры ‒ возлюбленной красавицы куртизанки Фрины) и еще более прекрасными богинями. Обнаженное тело удостоверяло родство людей с богами. Пракситель не просто художественно моделирует женское тело, но, по сути, создает идеал античной женщины-богини любви.
Созданное Праксителем тело Афродиты заставляло зрителей воссоздавать в своем воображении и реально переживать, во-первых, вид очень красивой обнаженной женщины (подражание Фрине), во-вторых, ослепительный образ богини-любви (достигаемый частично за счет совершенных пропорций и искусной композиции, частично гениальности скульптора), в-третьих, как бы примериваться к первой сцене любви со всеми ожидаемыми событиями и впечатлениями. Здесь два необходимых условия осознания и переживания тела: художественная коммуникация и сложная реальность вхождения в любовь, а также общения с богиней, и какое! В конце-концов, многие зрители примеривали на себя ситуацию, позволяющую хотя бы в воображении (в реальности искусства) в облике и теле любимой земной женщины любить Афродиту.
Что в творении Праксителя собирало предпосылки тела в собственно тело, в целое, единство? С одной стороны, тема и изображение приоткрывающейся любви. С другой ‒ собирала сакральность, ведь предметом любви была сама Афродита (поэтому абсолютно все в ней должно быть совершенным и прекрасным). С третьей стороны, собирало «общение по поводу» (посмотреть на творение Праксителя приезжали со всей Греции), именно в общении зрители проговаривали и осмысляли новую реальность ‒ тело Афродиты-Фрины, богини-любви-гетеры, возлюбленной гениального скульптора Праксителя. Что соединяло все эти разные реальности? Прекрасное тело: оно выступало источником любви, первородства, красоты» [11]. Именно прекрасное тело представляло собой экспрессивное построение.
Хотя предложенная методология позволяет анализировать и осмыслять довольно широкий круг выражений и произведений, не стоит думать, что найдена универсальная методология (отмычка). Нет, это еще одна семиотика, правда, с неплохими возможностями, назовем ее «экспрессионикой». Одна из перспектив семиотики ‒ развитие экспрессионики. И последнее. Я задаю себе вопрос: может быть, семиотические интерпретации не должны выходить за границы языка (т.е. «нечто иное» оставаться языком, ведь, например, тело Афродиты не выглядит как язык, или все же это язык телесности)? Но что такое, спрашивается, язык? Если верить Хайдеггеру, ‒ «дом бытия»? Тогда главное ‒ коммуникация и человеческий контент. Не функционирование умных машин, не Искусственный Интеллект, а строго по Дильтею ‒ жизнь человека в истории и культуре с пониманием, переживанием, выражением.
Библиография
1. Августин А. Антология средневековой мысли. Т. 1. ‒ СПб.: РХГИ, 2001. 539 с.
2. Галилей. Г. Диалог о двух главнейших системах мира. М.: Гостехиздат, 1948. 380 с.
3. Ильин М.В., Фомин И.В. И смысл, и мера. Семиотика в пространстве современной науки // Политические науки. 2016. N 3. С. 30-46.
4. Канке В. А. Семиотическая философия. Обнинск: ИАТЭ, 1997. 95 с.
5. Кузанский Н. Собрание соч. в 2-х т. М.: Мысль, Т. 2. 1980. 471 с.
6. Неретина С.С. Марианетка из рая // Традиционная и современная технология. М.: ИФРАН, 1999. С. 199-212.
7. Розин В.М. Математика: происхождение, природа, преподавание: На материале генезиса геометрии, механики, символической логики, анализа пропедевтических курсов и концепций преподавания. М.: URSS. 2021. 240 с.
8. Розин В.М. Введение в схемологию: схемы в философии, культуре, науке, проектировании. М.: URSS, 2011. 256 с.
9. Розин В.М. Учение о сновидениях и психических реальностях – одно из условий психологической интерпретации искусства // Розин Вадим. Природа и генезис европейского искусства (философский и культурно-исторический анализ). М.: Голос, 2011. С. 350-374.
10. Розин В.М. Расширительное истолкование семиотического подхода / Розин В.М. Образование в эпоху Интернета и индивидуализации. М.: Новый хронограф, 2020. С. 152-175.
11. Розин В.М. Практики телесности как социальное и смысловое основание понятий «тело» и «телесность» // Психология и Психотехника. 2022. № 7.
12. Розин В.М. Метафора как средствo построения художественной реальности (на примере анализа метафоры «кентавр» в романе Меира Шалева «Эсав») // Культура и искусство. – 2022. – № 2. – С. 31-42.
13. Розин В.М. Семиотические исследования. М.: ПЕР СЭ, 2001. 256 с.
14. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. Пер. с франц. А. Сухотина. Де Мауро Т. Биографические и критические заметки о Ф. де Соссюре; Пер. с франц. С. В. Чистяковой. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. 432 с.
15. Учение о знаках Ч. С. Пирса https://vuzlit.com/1532895/uchenie_znakah_pirsa
16. Черневич Е. В. Язык графического дизайна. М.: ВНИИТЭ, 1975. 137 с.
17. Шалев М. Эсав. https://www.litmir.me/br/?b=99460&p=6, 7, 8
18. Шалев М. Зови меня Евой https://gorky.media/context/zovite-menya-evoj/
19. Шнитке А.Г. Слово о Прокофьеве // Беседы с Альфредом Шнитке. М., 1994. С. 210-215.
20. Щедровицкий Г.П. О методе семиотического исследования знаковых систем // Семиотика и восточные языки. М.: Наука, 1967. С. 19-47.
21. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. ‒М.: Петрополис, 1998. 430 с.
22. https://news.artnet.com/art-world/mary-beard-aphrodite-knidos-1425571
References
1. Augustine, A. (2001). Anthology of medieval thought. T. 1. ‒ St. Petersburg: RKhGI.
2. Galileo, G. (1948). Dialogue about the two main systems of the world. M.: Gostekhizdat.
3. Ilyin, M.V., Fomin, I.V. (2016). Meaning and measure. Semiotics in the space of modern science // Political sciences. N 3.
4. Kanke, V.A. (1997). Semiotic Philosophy. Obninsk: IATE.
5. Kuzansky, N. (1980). Collection of Op. in 2 vols. Moscow: Thought, T. 2.
6. Neretina, S.S. (1999). Marianette from Paradise. Traditional and modern technology. Moscow: IFRAN.
7. Rozin, V.M. (2021). Mathematics: origin, nature, teaching: Based on the genesis of geometry, mechanics, symbolic logic, analysis of propaedeutic courses and teaching concepts. Moscow: URSS.
8. Rozin, V.M. (2011). Introduction to schemalogy: schemas in philosophy, culture, science, design. M.: URSS.
9. Rozin, V.M. (2011). The doctrine of dreams and psychic realities is one of the conditions for the psychological interpretation of art. Rozin Vadim. The Nature and Genesis of European Art (Philosophical and Cultural-Historical Analysis). M.: Golos.
10. Rozin, V.M. (2020). Extended interpretation of the semiotic approach / Rozin V.M. Education in the era of the Internet and individualization. Moscow: New Chronograph.
11. Rozin, V.M. (2022). The practice of corporality as a social and semantic basis for the concepts of "body" and "corporality". Psychology and Psychotechnics. No. 7.
12. Rozin, V.M. (2022). Metaphor as a means of constructing artistic reality (on the example of the analysis of the metaphor "centaur" in Meir Shalev's novel "Esav"). Culture and Art. No. 2.
13. Rozin, V.M. (2001). Semiotic research. M.: PER SE.
14. Saussure, F. (1999). Course of General Linguistics. Per. from French A. Sukhotina. De Mauro T. Biographical and critical notes on F. de Saussure; Per. from French S. V. Chistyakova. Yekaterinburg: Publishing House Ural. un-ta.
15. (2022). The doctrine of the signs of Ch. S. Pirsa https://vuzlit.com/1532895/uchenie_znakah_pirsa
16. Chernevich, E. V. (1975). The language of graphic design. M.: VNIITE.
17. Shalev, M. (2022) Esav. https://www.litmir.me/br/?b=99460&p=6, 7, 8
18. Shalev, M. (2022). Call me Eva https://gorky.media/context/zovite-menya-evoj/
19. Schnittke, A.G. (1994). Word about Prokofiev. Conversations with Alfred Schnittke. Moscow.
20. Shchedrovitsky, G.P. (1967). On the method of semiotic study of sign systems // Semiotics and Oriental Languages. Moscow: Nauka.
21. Eco, U. (1998). Missing structure. Introduction to semiology. Moscow: Petropolis.
22. (2022) https://news.artnet.com/art-world/mary-beard-aphrodite-knidos-1425571
Результаты процедуры рецензирования статьи
В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.
Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться здесь.
Автор начинает свое рассуждение с сопоставления математики как универсального языка естественнонаучного знания и семиотики как языка гуманитарных наук (наук о духе). Иллюстрирует эту мысль автор, ссылаясь на Николая Кузанского и Галилея. Насколько правомерно ставить в один ряд Николая Кузанского и Галилея? Оба писали о математике, но, все-таки, мышление Кузанца еще весьма далеко от пионера новоевропейского естествознания, от Галилео Галилея. Да, книга Природы написана на языке математики, - писал Галилей. Николай Кузанский же - переходная фигура, мышление его вобрало в себя средневековою традицию (идущую от Дунса Скота и Мейстера Экхарта), и представляет собой во многом возрождение неоплатонизма, а его обращение к математике не связано с написанием книги Природы, а, скорее, это - иной (нежели характерный для схоластики) способ мыслить Бога, мир, и человеческий ум, это попытка обнаружить меру соизмеримости божественной и человеческой разумности (отсюда - «ученое незнание»). Математика у него оказывается приблизительной наукой, и это, безусловно, новый ход. Хотя, действительно, идея о совпадении противоположностей Кузанца была плодотворной, но как именно философская идея, - математиком Кузанец не был.
Совершая небольшой экскурс в историю становления семиотики (в XIX в. она выступала и как аналог математики, и как аналог естественных наук), автор справедливо замечает, что опору для становления как математики, так и естествознания всегда черпали из философии: «Однако, как известно, начала обоих типов наук (математики и естествознания) задавались и разрабатывались в философии». Автор находит истоки формирования семиотики еще в далеком Средневековье, у св. Августина. Конечно, его понимание знака отличается от современного, но сама идея Августина плодотворна именно в качестве герменевтического жеста. Он может быть направлен на разные объекты. Автор предлагает иллюстрацию к такому пониманию Августина: обращение к музыке, в частности, к воспоминаниям Шнитке о музыке Прокофьева. Толкуя «знак» как схему в августиновском значении, автор, предвидя возможные возражения, уточняет, что в большей степени речь идет о «выражении» в дильтеевском смысле слова.
Когда заходит речь о семиотике как науке, автор показывает разницу в подходах у отечественных и зарубежных специалистов, и, несмотря на расхождения, общее для всех вариантов семиотик все-таки есть: «Тем не менее, во всех вариантах семиотики устанавливались отношения между составляющими знака (замещение, подобие, обозначение, метафора, выражение и др.)».
Свой собственный подход он определяет с методологической точки зрения как экспрессивный анализ произведений философии, искусства, науки: «Самая общая рамка и объемлющее целое ‒ это «осознаваемая культурная реальность… вторая, тоже достаточно общая рамка и объемлющее целое (имея в виду «экспрессивные построения»), ‒ «культурная коммуникация»…третья рамка представляет собой структуру содержания экспрессивных построений».
Автор приводит очень интересные примеры, которые демонстрируют «жизненность» его собственного подхода, вдохновение для построения которого он, в том числе, черпал из текстов св. Августина.
В целом статья представляет собой подведение итогов обширной работы над созданием авторского подхода в широком поле семиотики, но в то же время это - и самостоятельный оригинальный текст, с пояснениями и иллюстрациями к идеям. Вопрос о том, как можно было бы соотнести авторский подход с герменевтической традицией, для читателя остался открытым. Тем не менее, вторя Гадамеру, автор пишет о том, что «предложенная методология позволяет анализировать и осмыслять довольно широкий круг выражений и произведений, не стоит думать, что найдена универсальная методология (отмычка)».
Статья будет интересна широкому кругу читателей, она написана живым языком, автор напрямую обращается к читателю, полемизирует с другими мыслителями, приводит примеры из художественной литературы и пластичного искусства, демонстрирует высокий уровень владения проблемой, которой посвящена статья. Требуется небольшая корректировка: есть лишние пробелы пред точкой, не указана цитата (ниже привожу цитату), нет двоеточия перед цитатами в некоторых местах и т.д.
«приступая теперь к исследованию выражений, ‒ я говорю наоборот: пусть никто в них не обращает внимание на то, что есть, а только на то, что они суть выражения, т.е. что они выражают. Ибо выражение есть семиотическое построение, которое воздействует на чувства, помимо вида (непосредственного смысла), заставляя осознавать нечто иное… И у нас только одна причина для обозначения, т.е. для опознания выражения – вынуть и перенести в душу другого то, что производит в душе то, что создает выражение». -?
|
 Перевести страницу на:
Перевести страницу на:










 Перевести страницу на:
Перевести страницу на:










 Статья опубликована с лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) – Лицензия «С указанием авторства – Некоммерческая».
Статья опубликована с лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) – Лицензия «С указанием авторства – Некоммерческая».
